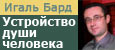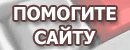New Page 1
|

|
Недельная глава
|
Двадцать второй цикл обсуждения (видео)
Прочесть двадцать первый цикл обсуждения
Прочесть двадцатый цикл обсуждения
Прочесть девятнадцатый цикл обсуждения
Прочесть восемнадцатый цикл обсуждения
Прочесть семнадцатый цикл обсуждения
Прочесть шестнадцатый цикл обсуждения
Прочесть пятнадцатый цикл обсуждения
Прочесть четырнадцатый цикл обсуждения
Прочесть седьмой цикл обсуждения
Прочесть шестой цикл обсуждения
Прочесть пятый цикл обсуждения
Прочесть четвертый цикл обсуждения
Прочесть третий цикл обсуждения
Прочесть второй цикл обсуждения
Прочесть первый цикл обсуждения
ГЛАВА «ТРУМА»
Место в Торе:
книга
Шемот, гл. 25, ст. 1 — гл. 27, ст. 19.
Почему глава так называется?
По начальным словам: “Говори сынам
Израиля, пусть принесут Мне приношение”
(гл. 25, ст. 2).
Приношение на иврите — трума.
Обсуждение главы Трума
1. Постоянно быть на связи с Творцом
В нашей недельной главе читаем: «И сделают
Мне Микдаш (в условном переводе — «Святилище»),
и Я буду пребывать среди них» (Шемот,
гл. 25, ст. 8).
А вот фрагмент из Афтары (см. на сайте
ответ «Что такое Афтара?», № 2803): «В
отношении Дома, который ты строишь, то если
ты будешь ходить по уставам Моим, и по
законам Моим поступать будешь, и соблюдать
будешь все заповеди Мои — Я исполню тебе
слово Мое... И буду жить среди сынов Израиля,
и не оставлю народа Моего» (Первая книга Мелахим
— Царей, гл. 6, ст. 12-13).
В обоих процитированных здесь отрывках
речь идет о строительстве Дома Всевышнего.
Но разве какой-то дом в состоянии Его
вместить? Написано в Танахе: «И достанет ли
у кого силы построить Ему Дом, когда небо и
Небеса Небес не вмещают Его?» (Вторая книга Диврей
а-Ямим — «Хроники дней», гл. 2, ст. 5).
Тем не менее, о Доме Всевышнего написано в
Торе, говорит о нем и пророк. Есть ли в этом
противоречие?
Попытаемся в этом разобраться.
Для чего вообще нужен Микдаш?
Чтобы освятил себя человек, приходящий в
Лом Всевышнего, чтобы очистил свои мысли и
направил их в правильное русло, чтобы
сердце его жаждало Творца.
Приношения же, которые он там совершает —
подготовка к освящению. Поэтому и назван Микдаш
— Микдашем. Ибо служит он освящению (кедуше)
приходящих туда людей.
В наше время, когда Храма у нас нет —
службу в Микдаше нам заменяет молитва.
Поэтому синагогу называют — «малый микдаш».
Ведь во время молитвы люди направляют свои
сердца к Всевышнему, исправляют свои мысли,
очищают души.
Но бывает так, что выйдя из бет кнессета
(синагоги) на улицу, человек вновь подпадает
под влияние дурного начала, оказывается в
плену у пагубных страстей. Он еще только
занес ногу над порогом, еще даже не
переступил его, а весь позитивный настрой
уже улетучился куда-то из его сердца.
Ветры улиц быстро гасят зажженный
молитвой огонек. Человек хотел исполнить
свой долг, потратил время и силы, а в итоге —
все улетучилось, «как с белых яблонь дым».
Поэтому предупреждает нас Тора: «И
сделают Мне Микдаш…» — не шалаш, не
времянку, разваливающуюся от порыва ветра,
но — построят Мне дом.
И эта заповедь относится к каждому еврею.
Как сказано: «В отношении Лома, который ты (каждый
еврей) строишь...».
Этот дом нужно постоянно строить и
укреплять. Ведь только мы можем обрести
возможность, чтобы Всевышний пребывал
среди нас.
Так в нашей недельной главе и написано: «…И
Я буду пребывать среди них».
на основе комментария рава Арье-Лейба
Натанзона
(автор книги «Бейт Эль», 18-й век)
2. Кто сторожил бейт мидраш рабана
Гамлиеля?
Одним из важных элементов Мишкана (переносного
Храма в пустыне) был Ковчег, в котором
хранились Скрижали Завета. Написано в Торе
о нем: «И пусть сделают Ковчег из акации. И
покрой его чистым золотом, изнутри и
снаружи покрой его» (Шемот, гл. 25, ст.
10-11).
Из этой фразы следует, что у мудреца Торы
внутренний мир должен соответствовать
внешнему облику (на языке Талмуда это
выражение — «тохо кеваро», ударение в
обоих словах на последнем слоге). И если это
правило не выполняется, — перед нами, как
говорится в Талмуде (трактат Йома,
лист 72) не мудрец Торы. И даже более того —
перед нами человек, который пытается выдать
себя за мудреца или знатока Торы, но все его
знания — показные и поверхностные, а на
самом деле, внутри, он — пустышка. Такой
человек считается растленным. И это о нем в
Танахе сказано: «Тем более презренный и
растленный человек, пьющий
несправедливость, как воду» (книга пророка Иова,
гл. 15, ст. 16).
У истинного мудреца духовное и
материальное, внутреннее и внешнее — в
постоянной гармонии. И это действительно
очень важно.
Если у человека поражены органы
пищеварения, то, какой бы полезной и
диетической ни была употребленная им пища
— она не усвоится, организм отторгнет ее.
Тора — это духовное питание, питание души.
Но когда нет гармонии в свойствах души,
когда испорчены черты характера (на иврите
— мидот), и человек — гордец или,
допустим, склочник — Тора не закрепится, не
задержится в нем. Поэтому он не может стать
мудрым.
Известно, что Рабан Шимон бен Гамлиэль
(великий Учитель, глава Санѓедрина —
Верховного Суда, 2-й век) не желал
преподавать Тору таким людям.
Написано в Талмуде (трактат Берахот,
лист 28), что он поставил сторожа на входе в
бейт мидраш (дом учения), который не
позволял войти туда людям, которые думают
одно, а делают другое, у кого внутреннее
содержание не соответствует внешнему
облику.
Но каким образом сторож выявлял таких
людей? У него, что был особый прибор,
позволяющий фиксировать уровень
духовности?
Конечно же, никакого такого прибора не
было. Впрочем, как не было и сторожа — в
привычном понимании этого слова. У входа в бейт
мидраш не стоял охранник с прибором или,
скажем, с ружьем. Роль сторожа выполнял
запрет рабана Гамлиэля. Именно этот запрет
лишал сладкоголосых ловкачей и пройдох
возможности просочиться внутрь, несмотря
на то, что дверь в бейт мидраш не была
заперта. Страх и оцепенение нападали на них,
не позволяя переступить порог.
Магарша (комментатор Талмуда, Польша,
16-й век) добавляет, что у истинного мудреца
Торы внутри непременно должен быть трепет
перед Всевышним. Если же внутри — пусто, то
перед нами вовсе не мудрец, но — «растленный
человек, пьющий несправедливость, как воду».
Важно подчеркнуть, что правило «тохо
кеваро», совершенно не предполагает, что
внутренний мир должен бросаться в глаза
окружающим, вываливая на них свои духовные
богатства. Наоборот, человека Торы украшает
— скромность. И когда он сам знает, что у
него внутреннее соответствует внешнему, и
духовное находится в гармонии с
материальным — этого вполне достаточно.
на основе комментариев раби
Иегуды-Арье-Лейба Алтера
(известен как Сфат Эмет; Ребе,
духовный руководитель Гурских хасидов,
один из величайших раввинов второй
половины 19-го века; Польша)
раби Авраама-Мордехая Алтера
(Ребе Гурских хасидов; чаще
упоминается под “псевдонимом”,
образованным от названия серии его книг —
Имрей Эмет; Польша – Израиль, середина 20-го
века)
и раби Менахема-Менделя из Коцка
(раби Менахем-Мендель
Моргенштерн; известен своими острыми,
мудрыми высказываниями; Польша, первая
половина 19-го века)
3. Как содержать мудреца Торы?
В нашей недельной главе дается описание
строения Ковчега Завета, в котором
хранились Скрижали. Об этом читаем: «И пусть
сделают ковчег из акации... И покрой его
чистым золотом, изнутри и снаружи покрой
его» (Шемот, гл. 25, ст. 10-11).
Сказанное о Ковчеге определенным образом
относится и к талмид хахаму — мудрецу
Торы.
Ковчег был покрыт золотом изнутри и
снаружи. Так Тора выстраивает изучающего ее.
Вначале она совершенствует его внутренние,
духовные качества, очищает их до самой
высокой пробы. Затем наступает черед
внешнего. И оно не должно отставать от
внутреннего содержания.
На основе устройства Ковчега рав Йосеф-Дов
Соловейчик (глава воложинской йешивы,
главный раввин Брест-Литовска, один из
крупнейших раввинов второй половины 19-го –
начала 20-го вв.) в своем фундаментальном
труде Бейт hа-Леви приходит к
важному выводу.
Большое значение для талмид хахама, —
пишет он, — имеет и то, кто его поддерживает.
Итак, одни люди посвящают себя глубокому
изучению Торы. Другие — решают
поддерживать их в этом праведном деле, что
весьма похвально.
Тот, кто берет на себя обязанность
содержать мудреца Торы, может подумать, что
вполне достаточно обеспечить его только
самым необходимым для поддержания жизни.
Крышей над головой и едой. Но это
заблуждение, — отмечает рав Соловейчик.
Ведь написано в Торе: «Покрой его чистым
золотом, изнутри и снаружи».
То есть — мало дать мудрецу возможность
приобретать знания (покрытие золотом
изнутри), важно, еще, чтобы и в глазах других
людей он достойно выглядел внешне. Так что,
будь добр, покрой его золотом и снаружи.
Попутно рав Йосеф-Дов Соловейчик обращает
внимание самого талмид хахама на то, что,
принимая пожертвование от бедняка, он не
должен относиться к этому пожертвованию (в
виду его малого размера) —
пренебрежительно. Ведь бедняк выполняет
так заповедь Торы о цедаке. Это означает,
что его пожертвование стало объектом
заповеди (на языке Талмуда — хефца де-мицва).
А пренебрежение к объекту заповеди —
недопустимо.
Далее рав Соловейчик в своем труде
Бейт hа-Леви в качестве примера
приводит заповедь кисуй hа-дам (о
покрытии крови).
По нашим законам, кровь разрешенных
евреям для еды животных и птицы, должна быть
присыпана (покрыта) землей. Как сказано: «И
всякий из сынов Израиля и из пришельцев,
проживающих среди них, кто поймает животное
или птицу, которых едят — пусть изольет его
кровь и покроет ее землей» (Ваикра,
гл. 17, ст. 13).
Землю на эту кровь ни в коем случае нельзя
сгребать ногой. И тот, кто так делает —
оскверняет заповедь Торы.
Принимающий пожертвование должен знать,
что даже если оно — совсем мизерное,
относиться к нему надо бережно и с
подобающим уважением. Ибо оно имеет статус цедаки,
а передавать цедаку на высокие
благородные цели — заповедь Торы.
на основе комментария рава Моше
Штернбуха
(лава Раввинского суда «Эйда
Хередит» в Иерусалиме)
4. Керувы Моше и львы
Шломо
Написано в нашей недельной главе: «И
сделай двух керувов из золота» (Шемот,
гл. 25, ст. 18).
Исходя из сказанного в Талмуде (трактат Хагига,
лист 13) можно сделать вывод, что керувы
имели человеческий облик.
В Десяти речениях, которые Всевышний
произнес на горе Синай во время дарования
Торы, в частности говорится: «Не делай себе
изваяния и никакого изображения» (Шемот,
гл. 20, ст. 4).
Похоже, что повеление сделать керувов
входит в противоречие с запретом на
изваяния и изображения. Можно ли исполнив
одно, не нарушить другое?
Также известно, что у царя Шломо был трон с
двенадцатью фигурками львов. А медный
умывальник в построенном им Храме, покоился
на двенадцати быках, выполненных весьма
реалистично.
Нам предстоит выяснить, как все эти львы и
быки соотносятся с приведенным запретом?
Запрещено иметь у себя даже те изваяния и
изображения, которым не поклоняются. Из
опасения, что в будущем их могут сделать
идолами.
Учителя эпохи Тосафот (Франция,
Германия, 12-13 вв.) в своем комментарии к
Талмуду (трактат Йома, лист 54)
отмечают, что львы на троне Шломо имели не
только эстетическое, но и вполне
функциональное предназначение. Сидя на
этом троне, Шломо разбирал судебные тяжбы.
Когда он допрашивал свидетелей, золотые
львы начинали рычать. При этом свидетелей,
как понятно, охватывал страх, они давали
правдивые показания. Утилитарное
назначение львов показывало, что они
созданы не для идолопоклонства.
Медные скульптуры быков в Храме исполняли
служебную роль — они были подставкой,
опорой для умывальника.
Обычно идолом делают тот предмет, который
не предназначен ни для чего другого. Ведь
никому не придет в голову поклоняться и
служить тому, что уже само служит кому-то
или чему-то. Исходя из этого, можно не
опасаться, что львы или быки царя Шломо
будут превращены в объект поклонения.
Теперь вернемся к керувам.
Сказано, что они — как бы составная часть
крышки. То есть — не являются чем-то
отдельным и поэтому не могут стать идолами.
Кроме того, их лица опущены вниз, и это
свидетельствует об их вторичности, об их
служебном, подчиненном положении по
отношению к Торе, хранящейся в Ковчеге. Да и
само повеление Всевышнего — «Сделай керувов»
— выводит их из сферы, на которую
распространяется запрет на изготовление
изваяний. Точно так же, как в случае с
заповедью о левиратном браке (йибум; см.
на сайте ответ «Что это за обычай — йибум?»,
№ 5225) и запретом вступать в брачные
отношения с женой брата. Или, к примеру,
запрет келаим (смешение шерсти и льна в
одном изделии) — не распространяется на
заповедь о цицит (см. на сайте ответ «Что
означают кисти белого цвета в одежде евреев?»,
№ 2291).
Да и сам факт, что повеление сделать керувов
исходит от того, кто сам же и установил
запрет на изваяния — снимает все вопросы.
на основе комментария рава Иегуды
Минца
(духовный глава ашкеназских
евреев; главный раввин Падуи, Италия, 1405-1509
гг.)
5. Почему керувы смотрели друг на друга
с любовью?
На крышке Ковчега стояли два керува.
Как сказано: «И будут керувы с
простертыми вверх крыльями. Крылья их
должны прикрывать крышку, а лица их будут
обращены друг к другу» (Шемот, гл. 25,
ст. 20).
Эти керувы имели человеческий облик.
Между ними располагалась Шехина (Присутствие
Всевышнего).
В нашем фрагменте написано, что керувы
были обращены лицами друг к другу. В
описании же Храма, который построил царь
Шломо, говорится, что они стояли,
отвернувшись друг от друга (вторая книга Диврей
а-Ямим — «Хроники дней», гл. 3, ст. 13).
В Талмуде (трактат Бава Батра, лист
99) Учителя разъясняют, что никакого
противоречия между этими двумя отрывками —
нет. Когда сыны Израиля живут по Торе,
выполняя Волю Всевышнего, — отмечают
Учителя, — керувы обращены друг к другу,
и между ними покоится Шехина. Если же
евреи пренебрегают указаниями Творца — керувы
друг от друга отворачиваются.
Керувы, — добавляет Рашбам (раби
Шмуэль бен Моше — комментатор
Торы и Талмуда, внук Раши; 12-й век), — были не
просто повернуты друг к другу. Когда
Всевышний был доволен Своим народом, и
между керувами пребывала Шехина, они
(керувы) смотрели друг на друга как
влюбленные. И это было доказательством
любви Всевышнего к Израилю.
Когда евреи на праздник приходили в Храм, коэны
(служители в Храме, прямые потомки Аарона по
мужской линии), как говорится в Талмуде (трактат
Йома, лист 54) — скатывали завесу,
показывали присутствующим керувов,
обращенных друг к другу, и говорили: смотри
Израиль, как любит тебя Всевышний.
В продолжении в Талмуде (там же)
рассказывается об удивительном событии.
Оказывается, когда захватчики вошли в
разрушенный Храм, они там увидели, что керувы
стоят один к другому лицом и смотрят друг на
друга с любовью и нежностью, подобно
влюбленным.
Возникает вопрос: как это объяснить? Ведь
такое положение керувов
свидетельствует о безоблачных отношениях
между евреями и Творцом. Но, если так — за
что был разрушен Храм? А если все же
отношения не были такими уж благостными —
почему же керувы не отвернулись друг от
друга?
Дело в том, что евреи не желали идти
дорогой Всевышнего и исполнять Его Волю. За
это и был разрушен Храм. И керувы
действительно стояли, смотря в
противоположные стороны. Но, увидев
захватчиков в самом святом для каждого
еврея месте, сыны Израиля раскаялись в
своих преступлениях и совершили тешуву
(вернулись на пути Всевышнего). И произошло
чудо — керувы, как когда-то, в лучшие
времена, устремили взоры друг на друга. И,
если бы исправление было бы полным, тогда
тут же наступило бы избавление (геула).
Слово Мишкан (Переносной Храм в
пустыне) созвучно со словом «машкон» (залог),
и оно в Торе повторяется дважды. И мы читаем:
«Вот исчисления относительно Мишкана, Мишкана
Свидетельства…» (Шемот, гл. 38, ст. 21).
Двукратное упоминание Мишкана в этой
фразе намекает на два Храма, которые были
взяты Всевышним в качестве залога, как
только евреи перестали выполнять Его Волю.
Но, если залог взят — значит и долг погашен.
Взгляд керувов теплеет. Их лица
поворачиваются навстречу друг другу…
на основе комментария рава Автор текста Мордехай Вейц 
ГЛАВА
ГЛАВА «ТРУМА»
Место в Торе:
книга
Шемот, гл. 25, ст. 1 — гл. 27, ст. 19.
Почему глава так называется?
По начальным словам: “Говори сынам
Израиля, пусть принесут Мне приношение”
(гл. 25, ст. 2).
Приношение на иврите — трума.
Обсуждение главы Трума
1. Постоянно быть на связи с Творцом
В нашей недельной главе читаем: «И сделают
Мне Микдаш (в условном переводе — «Святилище»),
и Я буду пребывать среди них» (Шемот,
гл. 25, ст. 8).
А вот фрагмент из Афтары (см. на сайте
ответ «Что такое Афтара?», № 2803): «В
отношении Дома, который ты строишь, то если
ты будешь ходить по уставам Моим, и по
законам Моим поступать будешь, и соблюдать
будешь все заповеди Мои — Я исполню тебе
слово Мое... И буду жить среди сынов Израиля,
и не оставлю народа Моего» (Первая книга Мелахим
— Царей, гл. 6, ст. 12-13).
В обоих процитированных здесь отрывках
речь идет о строительстве Дома Всевышнего.
Но разве какой-то дом в состоянии Его
вместить? Написано в Танахе: «И достанет ли
у кого силы построить Ему Дом, когда небо и
Небеса Небес не вмещают Его?» (Вторая книга Диврей
а-Ямим — «Хроники дней», гл. 2, ст. 5).
Тем не менее, о Доме Всевышнего написано в
Торе, говорит о нем и пророк. Есть ли в этом
противоречие?
Попытаемся в этом разобраться.
Для чего вообще нужен Микдаш?
Чтобы освятил себя человек, приходящий в
Лом Всевышнего, чтобы очистил свои мысли и
направил их в правильное русло, чтобы
сердце его жаждало Творца.
Приношения же, которые он там совершает —
подготовка к освящению. Поэтому и назван Микдаш
— Микдашем. Ибо служит он освящению (кедуше)
приходящих туда людей.
В наше время, когда Храма у нас нет —
службу в Микдаше нам заменяет молитва.
Поэтому синагогу называют — «малый микдаш».
Ведь во время молитвы люди направляют свои
сердца к Всевышнему, исправляют свои мысли,
очищают души.
Но бывает так, что выйдя из бет кнессета
(синагоги) на улицу, человек вновь подпадает
под влияние дурного начала, оказывается в
плену у пагубных страстей. Он еще только
занес ногу над порогом, еще даже не
переступил его, а весь позитивный настрой
уже улетучился куда-то из его сердца.
Ветры улиц быстро гасят зажженный
молитвой огонек. Человек хотел исполнить
свой долг, потратил время и силы, а в итоге —
все улетучилось, «как с белых яблонь дым».
Поэтому предупреждает нас Тора: «И
сделают Мне Микдаш…» — не шалаш, не
времянку, разваливающуюся от порыва ветра,
но — построят Мне дом.
И эта заповедь относится к каждому еврею.
Как сказано: «В отношении Лома, который ты (каждый
еврей) строишь...».
Этот дом нужно постоянно строить и
укреплять. Ведь только мы можем обрести
возможность, чтобы Всевышний пребывал
среди нас.
Так в нашей недельной главе и написано: «…И
Я буду пребывать среди них».
на основе комментария рава Арье-Лейба
Натанзона
(автор книги «Бейт Эль», 18-й век)
2. Кто сторожил бейт мидраш рабана
Гамлиеля?
Одним из важных элементов Мишкана (переносного
Храма в пустыне) был Ковчег, в котором
хранились Скрижали Завета. Написано в Торе
о нем: «И пусть сделают Ковчег из акации. И
покрой его чистым золотом, изнутри и
снаружи покрой его» (Шемот, гл. 25, ст.
10-11).
Из этой фразы следует, что у мудреца Торы
внутренний мир должен соответствовать
внешнему облику (на языке Талмуда это
выражение — «тохо кеваро», ударение в
обоих словах на последнем слоге). И если это
правило не выполняется, — перед нами, как
говорится в Талмуде (трактат Йома,
лист 72) не мудрец Торы. И даже более того —
перед нами человек, который пытается выдать
себя за мудреца или знатока Торы, но все его
знания — показные и поверхностные, а на
самом деле, внутри, он — пустышка. Такой
человек считается растленным. И это о нем в
Танахе сказано: «Тем более презренный и
растленный человек, пьющий
несправедливость, как воду» (книга пророка Иова,
гл. 15, ст. 16).
У истинного мудреца духовное и
материальное, внутреннее и внешнее — в
постоянной гармонии. И это действительно
очень важно.
Если у человека поражены органы
пищеварения, то, какой бы полезной и
диетической ни была употребленная им пища
— она не усвоится, организм отторгнет ее.
Тора — это духовное питание, питание души.
Но когда нет гармонии в свойствах души,
когда испорчены черты характера (на иврите
— мидот), и человек — гордец или,
допустим, склочник — Тора не закрепится, не
задержится в нем. Поэтому он не может стать
мудрым.
Известно, что Рабан Шимон бен Гамлиэль
(великий Учитель, глава Санѓедрина —
Верховного Суда, 2-й век) не желал
преподавать Тору таким людям.
Написано в Талмуде (трактат Берахот,
лист 28), что он поставил сторожа на входе в
бейт мидраш (дом учения), который не
позволял войти туда людям, которые думают
одно, а делают другое, у кого внутреннее
содержание не соответствует внешнему
облику.
Но каким образом сторож выявлял таких
людей? У него, что был особый прибор,
позволяющий фиксировать уровень
духовности?
Конечно же, никакого такого прибора не
было. Впрочем, как не было и сторожа — в
привычном понимании этого слова. У входа в бейт
мидраш не стоял охранник с прибором или,
скажем, с ружьем. Роль сторожа выполнял
запрет рабана Гамлиэля. Именно этот запрет
лишал сладкоголосых ловкачей и пройдох
возможности просочиться внутрь, несмотря
на то, что дверь в бейт мидраш не была
заперта. Страх и оцепенение нападали на них,
не позволяя переступить порог.
Магарша (комментатор Талмуда, Польша,
16-й век) добавляет, что у истинного мудреца
Торы внутри непременно должен быть трепет
перед Всевышним. Если же внутри — пусто, то
перед нами вовсе не мудрец, но — «растленный
человек, пьющий несправедливость, как воду».
Важно подчеркнуть, что правило «тохо
кеваро», совершенно не предполагает, что
внутренний мир должен бросаться в глаза
окружающим, вываливая на них свои духовные
богатства. Наоборот, человека Торы украшает
— скромность. И когда он сам знает, что у
него внутреннее соответствует внешнему, и
духовное находится в гармонии с
материальным — этого вполне достаточно.
на основе комментариев раби
Иегуды-Арье-Лейба Алтера
(известен как Сфат Эмет; Ребе,
духовный руководитель Гурских хасидов,
один из величайших раввинов второй
половины 19-го века; Польша)
раби Авраама-Мордехая Алтера
(Ребе Гурских хасидов; чаще
упоминается под “псевдонимом”,
образованным от названия серии его книг —
Имрей Эмет; Польша – Израиль, середина 20-го
века)
и раби Менахема-Менделя из Коцка
(раби Менахем-Мендель
Моргенштерн; известен своими острыми,
мудрыми высказываниями; Польша, первая
половина 19-го века)
3. Как содержать мудреца Торы?
В нашей недельной главе дается описание
строения Ковчега Завета, в котором
хранились Скрижали. Об этом читаем: «И пусть
сделают ковчег из акации... И покрой его
чистым золотом, изнутри и снаружи покрой
его» (Шемот, гл. 25, ст. 10-11).
Сказанное о Ковчеге определенным образом
относится и к талмид хахаму — мудрецу
Торы.
Ковчег был покрыт золотом изнутри и
снаружи. Так Тора выстраивает изучающего ее.
Вначале она совершенствует его внутренние,
духовные качества, очищает их до самой
высокой пробы. Затем наступает черед
внешнего. И оно не должно отставать от
внутреннего содержания.
На основе устройства Ковчега рав Йосеф-Дов
Соловейчик (глава воложинской йешивы,
главный раввин Брест-Литовска, один из
крупнейших раввинов второй половины 19-го –
начала 20-го вв.) в своем фундаментальном
труде Бейт hа-Леви приходит к
важному выводу.
Большое значение для талмид хахама, —
пишет он, — имеет и то, кто его поддерживает.
Итак, одни люди посвящают себя глубокому
изучению Торы. Другие — решают
поддерживать их в этом праведном деле, что
весьма похвально.
Тот, кто берет на себя обязанность
содержать мудреца Торы, может подумать, что
вполне достаточно обеспечить его только
самым необходимым для поддержания жизни.
Крышей над головой и едой. Но это
заблуждение, — отмечает рав Соловейчик.
Ведь написано в Торе: «Покрой его чистым
золотом, изнутри и снаружи».
То есть — мало дать мудрецу возможность
приобретать знания (покрытие золотом
изнутри), важно, еще, чтобы и в глазах других
людей он достойно выглядел внешне. Так что,
будь добр, покрой его золотом и снаружи.
Попутно рав Йосеф-Дов Соловейчик обращает
внимание самого талмид хахама на то, что,
принимая пожертвование от бедняка, он не
должен относиться к этому пожертвованию (в
виду его малого размера) —
пренебрежительно. Ведь бедняк выполняет
так заповедь Торы о цедаке. Это означает,
что его пожертвование стало объектом
заповеди (на языке Талмуда — хефца де-мицва).
А пренебрежение к объекту заповеди —
недопустимо.
Далее рав Соловейчик в своем труде
Бейт hа-Леви в качестве примера
приводит заповедь кисуй hа-дам (о
покрытии крови).
По нашим законам, кровь разрешенных
евреям для еды животных и птицы, должна быть
присыпана (покрыта) землей. Как сказано: «И
всякий из сынов Израиля и из пришельцев,
проживающих среди них, кто поймает животное
или птицу, которых едят — пусть изольет его
кровь и покроет ее землей» (Ваикра,
гл. 17, ст. 13).
Землю на эту кровь ни в коем случае нельзя
сгребать ногой. И тот, кто так делает —
оскверняет заповедь Торы.
Принимающий пожертвование должен знать,
что даже если оно — совсем мизерное,
относиться к нему надо бережно и с
подобающим уважением. Ибо оно имеет статус цедаки,
а передавать цедаку на высокие
благородные цели — заповедь Торы.
на основе комментария рава Моше
Штернбуха
(лава Раввинского суда «Эйда
Хередит» в Иерусалиме)
4. Керувы Моше и львы
Шломо
Написано в нашей недельной главе: «И
сделай двух керувов из золота» (Шемот,
гл. 25, ст. 18).
Исходя из сказанного в Талмуде (трактат Хагига,
лист 13) можно сделать вывод, что керувы
имели человеческий облик.
В Десяти речениях, которые Всевышний
произнес на горе Синай во время дарования
Торы, в частности говорится: «Не делай себе
изваяния и никакого изображения» (Шемот,
гл. 20, ст. 4).
Похоже, что повеление сделать керувов
входит в противоречие с запретом на
изваяния и изображения. Можно ли исполнив
одно, не нарушить другое?
Также известно, что у царя Шломо был трон с
двенадцатью фигурками львов. А медный
умывальник в построенном им Храме, покоился
на двенадцати быках, выполненных весьма
реалистично.
Нам предстоит выяснить, как все эти львы и
быки соотносятся с приведенным запретом?
Запрещено иметь у себя даже те изваяния и
изображения, которым не поклоняются. Из
опасения, что в будущем их могут сделать
идолами.
Учителя эпохи Тосафот (Франция,
Германия, 12-13 вв.) в своем комментарии к
Талмуду (трактат Йома, лист 54)
отмечают, что львы на троне Шломо имели не
только эстетическое, но и вполне
функциональное предназначение. Сидя на
этом троне, Шломо разбирал судебные тяжбы.
Когда он допрашивал свидетелей, золотые
львы начинали рычать. При этом свидетелей,
как понятно, охватывал страх, они давали
правдивые показания. Утилитарное
назначение львов показывало, что они
созданы не для идолопоклонства.
Медные скульптуры быков в Храме исполняли
служебную роль — они были подставкой,
опорой для умывальника.
Обычно идолом делают тот предмет, который
не предназначен ни для чего другого. Ведь
никому не придет в голову поклоняться и
служить тому, что уже само служит кому-то
или чему-то. Исходя из этого, можно не
опасаться, что львы или быки царя Шломо
будут превращены в объект поклонения.
Теперь вернемся к керувам.
Сказано, что они — как бы составная часть
крышки. То есть — не являются чем-то
отдельным и поэтому не могут стать идолами.
Кроме того, их лица опущены вниз, и это
свидетельствует об их вторичности, об их
служебном, подчиненном положении по
отношению к Торе, хранящейся в Ковчеге. Да и
само повеление Всевышнего — «Сделай керувов»
— выводит их из сферы, на которую
распространяется запрет на изготовление
изваяний. Точно так же, как в случае с
заповедью о левиратном браке (йибум; см.
на сайте ответ «Что это за обычай — йибум?»,
№ 5225) и запретом вступать в брачные
отношения с женой брата. Или, к примеру,
запрет келаим (смешение шерсти и льна в
одном изделии) — не распространяется на
заповедь о цицит (см. на сайте ответ «Что
означают кисти белого цвета в одежде евреев?»,
№ 2291).
Да и сам факт, что повеление сделать керувов
исходит от того, кто сам же и установил
запрет на изваяния — снимает все вопросы.
на основе комментария рава Иегуды
Минца
(духовный глава ашкеназских
евреев; главный раввин Падуи, Италия, 1405-1509
гг.)
5. Почему керувы смотрели друг на друга
с любовью?
На крышке Ковчега стояли два керува.
Как сказано: «И будут керувы с
простертыми вверх крыльями. Крылья их
должны прикрывать крышку, а лица их будут
обращены друг к другу» (Шемот, гл. 25,
ст. 20).
Эти керувы имели человеческий облик.
Между ними располагалась Шехина (Присутствие
Всевышнего).
В нашем фрагменте написано, что керувы
были обращены лицами друг к другу. В
описании же Храма, который построил царь
Шломо, говорится, что они стояли,
отвернувшись друг от друга (вторая книга Диврей
а-Ямим — «Хроники дней», гл. 3, ст. 13).
В Талмуде (трактат Бава Батра, лист
99) Учителя разъясняют, что никакого
противоречия между этими двумя отрывками —
нет. Когда сыны Израиля живут по Торе,
выполняя Волю Всевышнего, — отмечают
Учителя, — керувы обращены друг к другу,
и между ними покоится Шехина. Если же
евреи пренебрегают указаниями Творца — керувы
друг от друга отворачиваются.
Керувы, — добавляет Рашбам (раби
Шмуэль бен Моше — комментатор
Торы и Талмуда, внук Раши; 12-й век), — были не
просто повернуты друг к другу. Когда
Всевышний был доволен Своим народом, и
между керувами пребывала Шехина, они
(керувы) смотрели друг на друга как
влюбленные. И это было доказательством
любви Всевышнего к Израилю.
Когда евреи на праздник приходили в Храм, коэны
(служители в Храме, прямые потомки Аарона по
мужской линии), как говорится в Талмуде (трактат
Йома, лист 54) — скатывали завесу,
показывали присутствующим керувов,
обращенных друг к другу, и говорили: смотри
Израиль, как любит тебя Всевышний.
В продолжении в Талмуде (там же)
рассказывается об удивительном событии.
Оказывается, когда захватчики вошли в
разрушенный Храм, они там увидели, что керувы
стоят один к другому лицом и смотрят друг на
друга с любовью и нежностью, подобно
влюбленным.
Возникает вопрос: как это объяснить? Ведь
такое положение керувов
свидетельствует о безоблачных отношениях
между евреями и Творцом. Но, если так — за
что был разрушен Храм? А если все же
отношения не были такими уж благостными —
почему же керувы не отвернулись друг от
друга?
Дело в том, что евреи не желали идти
дорогой Всевышнего и исполнять Его Волю. За
это и был разрушен Храм. И керувы
действительно стояли, смотря в
противоположные стороны. Но, увидев
захватчиков в самом святом для каждого
еврея месте, сыны Израиля раскаялись в
своих преступлениях и совершили тешуву
(вернулись на пути Всевышнего). И произошло
чудо — керувы, как когда-то, в лучшие
времена, устремили взоры друг на друга. И,
если бы исправление было бы полным, тогда
тут же наступило бы избавление (геула).
Слово Мишкан (Переносной Храм в
пустыне) созвучно со словом «машкон» (залог),
и оно в Торе повторяется дважды. И мы читаем:
«Вот исчисления относительно Мишкана, Мишкана
Свидетельства…» (Шемот, гл. 38, ст. 21).
Двукратное упоминание Мишкана в этой
фразе намекает на два Храма, которые были
взяты Всевышним в качестве залога, как
только евреи перестали выполнять Его Волю.
Но, если залог взят — значит и долг погашен.
Взгляд керувов теплеет. Их лица
поворачиваются навстречу друг другу…
на основе комментария рава Цадока
hа-Коэна из Люблина
(автор книги «При цадик», Польша,
1823-1900 гг.)


Прочесть двадцать второй цикл обсуждения
Прочесть двадцать первый цикл обсуждения
Прочесть двадцатый цикл обсуждения
Прочесть девятнадцатый цикл обсуждения
Прочесть восемнадцатый цикл обсуждения
Прочесть семнадцатый цикл обсуждения
Прочесть шестнадцатый цикл обсуждения
Прочесть пятнадцатый цикл обсуждения
Прочесть четырнадцатый цикл обсуждения
Прочесть седьмой цикл обсуждения
Прочесть шестой цикл обсуждения
Прочесть пятый цикл обсуждения
Прочесть четвертый цикл обсуждения
Прочесть третий цикл обсуждения
Прочесть второй цикл обсуждения
Прочесть первый цикл обсуждения
|
|
|
|
|
New Page 1
|
![]()
![]()
![]()
![]()