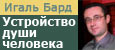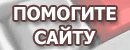Двадцать второй цикл обсуждения (видео)
Прочесть двадцать первый цикл обсуждения
Прочесть двадцатый цикл обсуждения
Прочесть девятнадцатый цикл обсуждения
Прочесть восемнадцатый цикл обсуждения
Прочесть семнадцатый цикл обсуждения
Прочесть шестнадцатый цикл обсуждения
Прочесть пятнадцатый цикл обсуждения
Прочесть четырнадцатый цикл обсуждения
Прочесть седьмой цикл обсуждения
Прочесть шестой цикл обсуждения
Прочесть пятый цикл обсуждения
Прочесть четвертый цикл обсуждения
Прочесть третий цикл обсуждения
Прочесть второй цикл обсуждения
Прочесть первый цикл обсуждения
ГЛАВА «Ве-зот а-бераха»
Место в Торе:
Дварим,
гл. 33, ст. 1 — конец книги Дварим.
Почему она так называется?
Первая фраза начинается так: “Вот
благословение, которым благословил Моше...
сынов Израиля...”.
Вот благословение на иврите — ве-зот а-браха.
Обсуждение главы Ве-зот
а-браха
1. Слуга и посланник
В начале нашей недельной главы читаем: «И
вот благословение, которым благословил
Моше, человек Всевышнего, сынов Израиля
перед своей смертью» (Дварим, гл. 33,
ст. 1).
Мы видим, что Моше назван здесь — «человеком
Всевышнего» (в оригинале — иш а-Элоким).
И это, конечно же — неспроста. Так в Торе
подчеркивается, что благословение Моше
обязательно осуществится. Ведь приятна
Творцу молитва праведников. Как сказано: «Молитва
благочестивых — благоволение Его» (Мишлей
— Притчи царя Шломо, гл. 15, ст. 8).
У слова «иш» есть и другое значение —
«муж». На этом построен комментарий к нашей
недельной главе в Мидраше Ялкут Шимони.
Написано в нем, что муж дает распоряжение
своей жене, и она выполняет. Так же и в
отношениях Всевышнего с Моше: то, о чем
просит Моше, Он, Творец — выполняет. И хотя
над Ним нет никакой власти, Он по
собственной воле при определенных условиях
подчиняет свои действия решениям
праведников, достигших духовного уровня «иш
а-Элоким» (человек Всевышнего). Праведник
принимает решение — Всевышний его
осуществляет.
«Человеком Всевышнего» (иш а-Элоким) в
Торе назван Моше и еще некоторые пророки.
Среди них — Элияhу, Шмуэль, Элиша и др. Но
никто не назван «человеком Творца» (имеется
в виду четырехбуквенное великое Имя).
Впрочем, Моше именуется в Торе (Дварим,
гл. 34, ст. 5) и «слугой Творца» (в оригинале — эвед Творца).
Так почему есть понятия «иш а-Элоким»,
«эвед Творца», но нет понятия — «иш
Творца»?
пишет, что Ответ на этот вопрос, — пишет Рамбан
(Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид;
великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда;
Испания – Эрец Исраэль, конец 12-го –
начало 13-го вв.), — «известен каждому, кто
постиг тайну».
Постараемся и мы разобраться, в чем тут
суть.
Имя Элоким выражает Его Меру Суда, а
четырехбуквенное Имя — Меру Его
Милосердия.
Муж управляет женой. И если она возьмет на
себя обет, а он, муж, как сказано в Торе (Бамидбар,
гл. 30, ст. 8) — «промолчит, то ее обеты будут
действительны». Но если «воспрепятствует
ей — расторгнет ее обет» (там же, ст.9).
Когда Моше назван в Торе — «иш а-Элоким»,
тем самым подразумевается, что Всевышний на
определенных этапах предоставлял Моше
возможность управлять Мерой Его Суда.
А как же с Его Милосердием? Выходит, Творец
не позволял Моше Его Мерой Милосердия,
выходит, Творец не позволял Моше управлять
Мерой Его Милосердия? Ведь Моше ни разу не
назван — «иш Творца».
Дело в том, что милосердие было одной из
основных черт Моше. Он сам по себе и его
поступки до краев были наполнены
милосердием. За это он и удостоился права
управлять Его Мерой Суда.
Еще можно добавить, что Имя Элоким подчеркивает,
что Всевышний — Хозяин всех действующих в
мире сил. Поэтому оно, это Имя, имеет форму
множественного числа. Оно символизирует
раскрытие Всевышнего, Его проявление в
нашем мире, через совокупность действующих
сил и развивающихся процессов. В отличие от
него, четырехбуквенное Имя отражает, если
можно так выразиться — самую суть Творца.
Поэтому, когда речь идет о служении
Всевышнему, это — служение Ему самому. И в
данном случае о Моше говорится, что он —
слуга Творца. Но когда Моше выступает в роли
посланника Всевышнего, реализует Его Волю
на земле, он — иш а-Элоким.
на основе комментариев Рамбана
(Рабейну Моше бен Нахман —
Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха
и Талмуда; Испания – Эрец Исраэль, конец 12-го
– начало 13-го вв.)
и рабейну Бехае
(раби Бехае бар Ашер; известный
комментатор Торы, автор нескольких трудов
по вопросам еврейской этики; Испания, 14-й
век)
2. Хочешь критиковать — благослови
Написано в нашей недельной главе: «И вот
благословение, которым благословил Моше,
человек Всевышнего, сынов Израиля перед
смертью своей» (Дварим, гл. 33, ст. 1).
Мы видим, что последняя глава книги Дварим
начинается соединительным союзом «и» (в
оригинале — «вав»).
Что с чем этот союз соединяет?
Книга Дварим — это книга
наставлений и увещеваний, критики и укоров.
Но наша глава начинается — благословением.
В принципе критика, конечно же — вещь
полезная. Она помогает найти ошибки,
исправить их и больше не повторять. Однако
встречаются порой злобные, желчные люди,
критикующие все и вся. И вовсе не для того,
чтобы принести кому-то пользу. Но, наоборот
— чтобы уязвить, ранить, причинить боль.
Впрочем, это уже не критика, а —
критиканство.
Как отличить одно от другого?
Конструктивная критика всегда — на благо.
Моше соединил критику с берахой (благословением).
Говорится в Талмуде (трактат Сота,
лист 47), что даже если левой руке приходится
отталкивать, наказывать — правой следует
приближать, утешать.
Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший
комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век),
комментируя благословение Моше, пишет: «если
не сейчас, то когда?».
В самом деле. Почему Моше тянул с берахой
почти до самой своей смерти? Почему не
благословил сынов Израиля раньше?
В действительности не было и дня, чтобы
Моше не испытывал желания благословить
свой народ. Но он видел, что изо дня в день
растет его духовный уровень, изо дня в день
он восходит на новую ступень. Стало быть,
возрастает и потенциал берахи. Каждый
день Моше ощущал, что завтра его
благословение будет иметь большую силу.
Но вот, незадолго до своей кончины,
достигнув уровня, который назван в Торе — «человек
Всевышнего» (иш а-Элоким), Моше понял,
что настало время берахи («если не
сейчас, то когда?»). И сразу же в Торе читаем:
«вот благословение, которым благословил
Моше...».
Но в чём конкретно состояло благословение
Моше?
Написано в трактате Пиркей Авот («Наставления
отцов», гл. 2, мишна 10), что человек, хотя бы за
день до своей смерти — должен раскаяться в
своих прегрешениях и вернуться на путь Торы
и заповедей (то есть сделать тешуву).
Поскольку никто не знает дату своей
смерти, — отмечает рабейну Йона (один из
крупнейших комментаторов Талмуда, автор
многих книг; Испания, 13-й век), — выполнять
это наставление следует каждый день и
относиться к каждому дню так, будто он —
последний. Тогда все дни человека, —
продолжает рабейну Йона, — пройдут в тешуве.
В этом же ключе следует рассматривать и
благословение Моше.
Моше благословил сынов Израиля «последним
днем». То есть — завещал им жить так, как
будто сегодняшний день — последний день
жизни.
Кроме того, Моше благословил свой народ
еще и — «человеком Всевышнего». Чтобы в
каждом поколении был такой человек —
мудрый наставник, лидер, глава поколения.
С тех пор сыны Израиля никогда не
оставались без мудрого руководства. На
смену мудрецам Торы и наставникам, ушедшим
в иной мир, всегда приходили новые.
на основе комментариев Хизкуни
(рав Авраам Хизкуни — автор труда
«Штей Ядот»; 17-й век, Италия),
раби Менахема-Менделя Калиша из
Ворки (1819-1867 гг.)
и раби Яакова-Давида Калиша из
Амшинова (1814-1877 гг.)
3. Где Моше встречает Аарона
В Израиле коэны (прямые потомки Аарона,
брата Моше Рабейну, служители в Храме)
благословляют еврейский народ и в будни и в
праздники. За пределами Эрец Исраэль, в
рассеянии — только в праздничные дни.
Причем, в праздник Симхат Тора (праздник,
посвященный завершению годового цикла
чтения Торы), который в диаспоре в отличие
от Израиля, отмечают отдельно от праздника
Шмини Ацерет, в свой день, коэны — тоже
не благословляют народ. См. на сайте материалы
об этих праздниках.
В чем причина возникновения этого обычая?
День праздника Симхат Тора, — разъясняют
наши Учителя, — всецело посвящен радости,
связанной с дарование Торы, Торы, которую
называют Торой Моше. В этот день читают
благословение Моше, которое начинается
словами: «И вот благословение, которым
благословил Моше, человек Всевышнего, сынов
Израиля перед смертью своей» (Дварим,
гл. 33, ст. 1). В этот день благословение Аарона
(благословение коэнов) как бы
отодвигается на второй план и — не
произносится. Чтобы лучше была слышна бераха
(благословение) Моше.
Так же можно объяснить и отсутствие имени
Моше в недельной главе Тецаве (книга
Торы Шемот, гл.
27, ст. 20 — гл. 30, ст. 10).
В этой главе говорится об одеяниях коэнов.
Это — глава Аарона. Она полностью посвящена
ему. Поэтому и не упоминается там имя Моше.
Он, Моше, как бы уступает эту главу Аарону —
чтобы не бросаться в глаза, не отвлекать на
себя внимание.
В остальные дни года Моше и Аарон
прекрасно соседствуют в молитве.
Моше благословил сынов Израиля Торой. Об
этом свидетельствует самое первое слово в
нашей недельной главе — «и вот» (на иврите
— «ве-зот»).
«И вот бераха (благословение)…». Ранее,
в недельной главе Ваэтханан (Дварим,
гл. 3, ст. 23 — гл. 7, ст. 11) написано: «И вот
Тора, которую изложил Моше пред сынами
Израиля» (Дварим, гл.4, ст.44).
Мы видим, что слово «зот» связано и с берахой
и с Торой. А в самой Торе о берахе
сказано: «Потому что хорошо в глазах
Всевышнего благословлять Израиль» (Бамидбар,
гл. 24, ст. 1).
Это, кстати сказать — очень важно усвоить.
Не случайно в утренних благословениях (начальная
часть утренней молитвы) сразу за
благословением на Тору, которая
ассоциируется с Моше, следует
благословение Аарона (биркат коаним).
Моше и Аарон. Благословение Торой и
благословение Израиля. Когда это требуется
— один уступает другому. Но в основном они
— вместе.
на основе комментария раби
Авраама-Мордехая Алтера
(Ребе Гурских хасидов; чаще
упоминается под “псевдонимом”,
образованным от названия серии его книг —
Имрей Эмет; Польша – Израиль, середина 20-го
века)
4. Двойное благословение
Книга Дварим посвящена в основном
критике сынов Израиля. Ее содержание, по
большей части, составляют наставления,
увещевания, предупреждения и упреки.
Чтобы критика была конструктивной, Моше
сдабривает ее благословением. И в тексте
Торы читаем: «И вот благословение, которым
благословил Моше» (Дварим, гл. 33, ст.
1).
Только не надо думать, что бераха (благословение)
причитается сынам Израиля — автоматически,
без выполнения каких-либо условий. Ведь
упомянув о берахе, Моше сразу же
добавляет: «Всевышний от Синая пришел... а
справа от Него — пламя закона» (Дварим,
гл. 33, ст. 2).
Мы видим, что благословение Моше
обусловлено изучением Торы и соблюдением
ее законов. И это не удивительно. Ведь Тора
— источник всех благословений.
Жаждешь берахи — ступай к источнику!
Сказано в Талмуде (трактат Кидушин,
лист 57), что предлог «эт» используется в
Торе не только для того, чтобы показать на
кого (или на что) направленно действие. На
нем лежит ещё одна важная функция —
производить добавления.
В первой фразе нашей недельной главы
присутствует предлог «эт», просто в
русском переводе — «И вот благословение,
которым благословил Моше... сынов Израиля»
— его не видно. В оригинале текста Торы
предлог «эт» стоит перед
словосочетанием «сыновьями Израиля» —
показывая, что это именно на них
направленна бераха Моше.
Но ведь этого, согласно Талмуду — мало. Он
должен еще что-то добавить. Что же он
добавляет к нашей фразе?
Чтобы в этом разобраться, нужно заглянуть
в книгу Зогар. В ней говорится, что,
решив благословить друга или родственника,
человек сначала должен благословить
Всевышнего. И только тогда есть шанс, что
его бераха будет иметь силу.
Моше наверняка знал это правило.
Используемый им предлог «эт»
свидетельствует, что прежде чем
благословить сынов Израиля, он благословил
Всевышнего. На это указывают и
повторяющиеся слова — «благословение,
которым благословил».
И действительно, к чему это удвоение?
Чтобы показать, что речь здесь идет о двух
благословениях. Сначала Моше благословил
Всевышнего, а затем — свой народ. И
благодаря этому, бераха Моше —
осуществилась.
на основе комментариев Яакова-Хаима
Софера
(автор труда «Каф hа-Хаим», Багдад
– Иерусалим, 1867-1939 гг.)
и рава Моше-Яакова Равикова
(известен и как Сандляр, т.к. имел
сапожную мастерскую;
уроки, которые он давал по
субботам, опубликованы в книге «Ликутей
раби Моше-Яаков»; конец 19-го — первая
половина 20-го вв.; Белорусь — Эрец Исраэль)
5. Кто читает Тору слева направо?
Большая часть нашей недельной главы — это
благословение (на иврите — бераха),
которым благословил Моше еврейский народ.
Поэтому глава так и называется — «Ве-зот а-бераха»).
По первым словам ее текста: «И вот
благословение…».
Прочтем этот фрагмент чуть дальше.
Написано: «И вот благословение, которым
благословил Моше... сынов Израиля...
Всевышний от Синая пришел и воссиял от
Сеира... а справа от Него — пламя закона» (Дварим,
гл. 33, ст. 1-2).
В самом начале своего благословения Моше
напоминает о заслуге сынов Израиля. Чтобы
благодаря этой заслуге, молитва Моше была
принята и осуществилась бераха.
Но о какой заслуге идет речь?
Читаем — «Всевышний от Синая пришел».
Здесь, несомненно, говорится о даровании
Торы у горы Синай. Еврейский народ
согласился принять Тору, а другие народы,
как написано в Талмуде (трактат Авода
Зара, лист 2), от нее отказались.
Значит, заслуга — в принятии Торы. Изучим
данную тему более детально.
Итак, Всевышний предлагал принять Тору
потомкам Эсава (от него произошло
большинству европейских народов).
— О чем она, Тора? — спросили они.
— О том, например, что нельзя убивать.
Убийство — это прегрешение.
— Но ведь наша сила — в умении воевать, —
возразили потомки Эсава.
Сказано в Торе: «А руки — руки Эсава!» (Берешит,
гл. 27, ст. 22). И еще: «И мечом твоим жить будешь»
(Берешит, гл. 27, ст.40).
Отвергли Тору потомки Эсава.
Тогда Всевышний предложил Тору другим
народам. Но и те отказались.
В конце концов, Тора была предложена
евреям.
— Что написано в ней? — спросили они.
— Я, Всевышний твой! — был ответ.
И евреи сразу согласились принять Тору.
Тут возникает вопрос: а не подыграл ли
сынам Израиля Всевышний? Если бы Он на
вопрос потомков Эсава ответил так же, как
евреям — они, быть может, тоже согласились
бы принять Тору?
На самом деле все было честно и
справедливо.
Всевышний и евреям и не евреям на их
вопрос давал абсолютно идентичный ответ. В
качестве ответа и тем и другим Он показывал
Скрижали Завета.
Скрижалей, как нам известно, было две — с
пятью заповедями на каждой. Только евреи
читают справа налево, поэтому и начали
читать с правой скрижали. А в первой,
верхней начертанной на ней заповеди, как
раз и говорилось: «Я, Всевышний твой...».
Потомки же Эсава читают слева направо.
Поэтому они и прочли, в качестве ответа на
свой вопрос — верхнюю заповедь на левой
скрижали: «Не убивай».
Намек на это содержится в словах Моше — «Всевышний
от Синая пришел и воссиял от Сеира».
Сеир — название местности, в которой
обитал Эсав.
Всевышний пришел с горы Синай и воссиял
Торой на горе Эсава, на горе Сеир. Потомки
Эсава, по своему обычаю, стали читать Тору
слева направо. Поэтому и прочли прежде
всего: «Не убивай».
Сыны Израиля читают справа налево. И
прочли — «Я, Всевышний твой...».
Об этом в нашем фрагменте сказано: «А
справа от Него — пламя закона».
Если перед вами положили Тору или
Скрижали Завета — начинайте читать справа.
Помня, что потомки Эсава начали чтение
слева, и — остались без Торы...
на основе комментариев Сефорно
(раби Овадия Сефорно; известный
комментатор Торы, Италия, 16-й век)
и Виленского Гаона
(раби Элиягу из города Вильно,
Литва, 18-й век)
Автор текста Мордехай Вейц 
ГЛАВА
ГЛАВА «Ве-зот а-бераха»
Место в Торе:
Дварим,
гл. 33, ст. 1 — конец книги Дварим.
Почему она так называется?
Первая фраза начинается так: “Вот
благословение, которым благословил Моше...
сынов Израиля...”.
Вот благословение на иврите — ве-зот а-браха.
Обсуждение главы Ве-зот
а-браха
1. Слуга и посланник
В начале нашей недельной главы читаем: «И
вот благословение, которым благословил
Моше, человек Всевышнего, сынов Израиля
перед своей смертью» (Дварим, гл. 33,
ст. 1).
Мы видим, что Моше назван здесь — «человеком
Всевышнего» (в оригинале — иш а-Элоким).
И это, конечно же — неспроста. Так в Торе
подчеркивается, что благословение Моше
обязательно осуществится. Ведь приятна
Творцу молитва праведников. Как сказано: «Молитва
благочестивых — благоволение Его» (Мишлей
— Притчи царя Шломо, гл. 15, ст. 8).
У слова «иш» есть и другое значение —
«муж». На этом построен комментарий к нашей
недельной главе в Мидраше Ялкут Шимони.
Написано в нем, что муж дает распоряжение
своей жене, и она выполняет. Так же и в
отношениях Всевышнего с Моше: то, о чем
просит Моше, Он, Творец — выполняет. И хотя
над Ним нет никакой власти, Он по
собственной воле при определенных условиях
подчиняет свои действия решениям
праведников, достигших духовного уровня «иш
а-Элоким» (человек Всевышнего). Праведник
принимает решение — Всевышний его
осуществляет.
«Человеком Всевышнего» (иш а-Элоким) в
Торе назван Моше и еще некоторые пророки.
Среди них — Элияhу, Шмуэль, Элиша и др. Но
никто не назван «человеком Творца» (имеется
в виду четырехбуквенное великое Имя).
Впрочем, Моше именуется в Торе (Дварим,
гл. 34, ст. 5) и «слугой Творца» (в оригинале — эвед Творца).
Так почему есть понятия «иш а-Элоким»,
«эвед Творца», но нет понятия — «иш
Творца»?
пишет, что Ответ на этот вопрос, — пишет Рамбан
(Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид;
великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда;
Испания – Эрец Исраэль, конец 12-го –
начало 13-го вв.), — «известен каждому, кто
постиг тайну».
Постараемся и мы разобраться, в чем тут
суть.
Имя Элоким выражает Его Меру Суда, а
четырехбуквенное Имя — Меру Его
Милосердия.
Муж управляет женой. И если она возьмет на
себя обет, а он, муж, как сказано в Торе (Бамидбар,
гл. 30, ст. 8) — «промолчит, то ее обеты будут
действительны». Но если «воспрепятствует
ей — расторгнет ее обет» (там же, ст.9).
Когда Моше назван в Торе — «иш а-Элоким»,
тем самым подразумевается, что Всевышний на
определенных этапах предоставлял Моше
возможность управлять Мерой Его Суда.
А как же с Его Милосердием? Выходит, Творец
не позволял Моше Его Мерой Милосердия,
выходит, Творец не позволял Моше управлять
Мерой Его Милосердия? Ведь Моше ни разу не
назван — «иш Творца».
Дело в том, что милосердие было одной из
основных черт Моше. Он сам по себе и его
поступки до краев были наполнены
милосердием. За это он и удостоился права
управлять Его Мерой Суда.
Еще можно добавить, что Имя Элоким подчеркивает,
что Всевышний — Хозяин всех действующих в
мире сил. Поэтому оно, это Имя, имеет форму
множественного числа. Оно символизирует
раскрытие Всевышнего, Его проявление в
нашем мире, через совокупность действующих
сил и развивающихся процессов. В отличие от
него, четырехбуквенное Имя отражает, если
можно так выразиться — самую суть Творца.
Поэтому, когда речь идет о служении
Всевышнему, это — служение Ему самому. И в
данном случае о Моше говорится, что он —
слуга Творца. Но когда Моше выступает в роли
посланника Всевышнего, реализует Его Волю
на земле, он — иш а-Элоким.
на основе комментариев Рамбана
(Рабейну Моше бен Нахман —
Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха
и Талмуда; Испания – Эрец Исраэль, конец 12-го
– начало 13-го вв.)
и рабейну Бехае
(раби Бехае бар Ашер; известный
комментатор Торы, автор нескольких трудов
по вопросам еврейской этики; Испания, 14-й
век)
2. Хочешь критиковать — благослови
Написано в нашей недельной главе: «И вот
благословение, которым благословил Моше,
человек Всевышнего, сынов Израиля перед
смертью своей» (Дварим, гл. 33, ст. 1).
Мы видим, что последняя глава книги Дварим
начинается соединительным союзом «и» (в
оригинале — «вав»).
Что с чем этот союз соединяет?
Книга Дварим — это книга
наставлений и увещеваний, критики и укоров.
Но наша глава начинается — благословением.
В принципе критика, конечно же — вещь
полезная. Она помогает найти ошибки,
исправить их и больше не повторять. Однако
встречаются порой злобные, желчные люди,
критикующие все и вся. И вовсе не для того,
чтобы принести кому-то пользу. Но, наоборот
— чтобы уязвить, ранить, причинить боль.
Впрочем, это уже не критика, а —
критиканство.
Как отличить одно от другого?
Конструктивная критика всегда — на благо.
Моше соединил критику с берахой (благословением).
Говорится в Талмуде (трактат Сота,
лист 47), что даже если левой руке приходится
отталкивать, наказывать — правой следует
приближать, утешать.
Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший
комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век),
комментируя благословение Моше, пишет: «если
не сейчас, то когда?».
В самом деле. Почему Моше тянул с берахой
почти до самой своей смерти? Почему не
благословил сынов Израиля раньше?
В действительности не было и дня, чтобы
Моше не испытывал желания благословить
свой народ. Но он видел, что изо дня в день
растет его духовный уровень, изо дня в день
он восходит на новую ступень. Стало быть,
возрастает и потенциал берахи. Каждый
день Моше ощущал, что завтра его
благословение будет иметь большую силу.
Но вот, незадолго до своей кончины,
достигнув уровня, который назван в Торе — «человек
Всевышнего» (иш а-Элоким), Моше понял,
что настало время берахи («если не
сейчас, то когда?»). И сразу же в Торе читаем:
«вот благословение, которым благословил
Моше...».
Но в чём конкретно состояло благословение
Моше?
Написано в трактате Пиркей Авот («Наставления
отцов», гл. 2, мишна 10), что человек, хотя бы за
день до своей смерти — должен раскаяться в
своих прегрешениях и вернуться на путь Торы
и заповедей (то есть сделать тешуву).
Поскольку никто не знает дату своей
смерти, — отмечает рабейну Йона (один из
крупнейших комментаторов Талмуда, автор
многих книг; Испания, 13-й век), — выполнять
это наставление следует каждый день и
относиться к каждому дню так, будто он —
последний. Тогда все дни человека, —
продолжает рабейну Йона, — пройдут в тешуве.
В этом же ключе следует рассматривать и
благословение Моше.
Моше благословил сынов Израиля «последним
днем». То есть — завещал им жить так, как
будто сегодняшний день — последний день
жизни.
Кроме того, Моше благословил свой народ
еще и — «человеком Всевышнего». Чтобы в
каждом поколении был такой человек —
мудрый наставник, лидер, глава поколения.
С тех пор сыны Израиля никогда не
оставались без мудрого руководства. На
смену мудрецам Торы и наставникам, ушедшим
в иной мир, всегда приходили новые.
на основе комментариев Хизкуни
(рав Авраам Хизкуни — автор труда
«Штей Ядот»; 17-й век, Италия),
раби Менахема-Менделя Калиша из
Ворки (1819-1867 гг.)
и раби Яакова-Давида Калиша из
Амшинова (1814-1877 гг.)
3. Где Моше встречает Аарона
В Израиле коэны (прямые потомки Аарона,
брата Моше Рабейну, служители в Храме)
благословляют еврейский народ и в будни и в
праздники. За пределами Эрец Исраэль, в
рассеянии — только в праздничные дни.
Причем, в праздник Симхат Тора (праздник,
посвященный завершению годового цикла
чтения Торы), который в диаспоре в отличие
от Израиля, отмечают отдельно от праздника
Шмини Ацерет, в свой день, коэны — тоже
не благословляют народ. См. на сайте материалы
об этих праздниках.
В чем причина возникновения этого обычая?
День праздника Симхат Тора, — разъясняют
наши Учителя, — всецело посвящен радости,
связанной с дарование Торы, Торы, которую
называют Торой Моше. В этот день читают
благословение Моше, которое начинается
словами: «И вот благословение, которым
благословил Моше, человек Всевышнего, сынов
Израиля перед смертью своей» (Дварим,
гл. 33, ст. 1). В этот день благословение Аарона
(благословение коэнов) как бы
отодвигается на второй план и — не
произносится. Чтобы лучше была слышна бераха
(благословение) Моше.
Так же можно объяснить и отсутствие имени
Моше в недельной главе Тецаве (книга
Торы Шемот, гл.
27, ст. 20 — гл. 30, ст. 10).
В этой главе говорится об одеяниях коэнов.
Это — глава Аарона. Она полностью посвящена
ему. Поэтому и не упоминается там имя Моше.
Он, Моше, как бы уступает эту главу Аарону —
чтобы не бросаться в глаза, не отвлекать на
себя внимание.
В остальные дни года Моше и Аарон
прекрасно соседствуют в молитве.
Моше благословил сынов Израиля Торой. Об
этом свидетельствует самое первое слово в
нашей недельной главе — «и вот» (на иврите
— «ве-зот»).
«И вот бераха (благословение)…». Ранее,
в недельной главе Ваэтханан (Дварим,
гл. 3, ст. 23 — гл. 7, ст. 11) написано: «И вот
Тора, которую изложил Моше пред сынами
Израиля» (Дварим, гл.4, ст.44).
Мы видим, что слово «зот» связано и с берахой
и с Торой. А в самой Торе о берахе
сказано: «Потому что хорошо в глазах
Всевышнего благословлять Израиль» (Бамидбар,
гл. 24, ст. 1).
Это, кстати сказать — очень важно усвоить.
Не случайно в утренних благословениях (начальная
часть утренней молитвы) сразу за
благословением на Тору, которая
ассоциируется с Моше, следует
благословение Аарона (биркат коаним).
Моше и Аарон. Благословение Торой и
благословение Израиля. Когда это требуется
— один уступает другому. Но в основном они
— вместе.
на основе комментария раби
Авраама-Мордехая Алтера
(Ребе Гурских хасидов; чаще
упоминается под “псевдонимом”,
образованным от названия серии его книг —
Имрей Эмет; Польша – Израиль, середина 20-го
века)
4. Двойное благословение
Книга Дварим посвящена в основном
критике сынов Израиля. Ее содержание, по
большей части, составляют наставления,
увещевания, предупреждения и упреки.
Чтобы критика была конструктивной, Моше
сдабривает ее благословением. И в тексте
Торы читаем: «И вот благословение, которым
благословил Моше» (Дварим, гл. 33, ст.
1).
Только не надо думать, что бераха (благословение)
причитается сынам Израиля — автоматически,
без выполнения каких-либо условий. Ведь
упомянув о берахе, Моше сразу же
добавляет: «Всевышний от Синая пришел... а
справа от Него — пламя закона» (Дварим,
гл. 33, ст. 2).
Мы видим, что благословение Моше
обусловлено изучением Торы и соблюдением
ее законов. И это не удивительно. Ведь Тора
— источник всех благословений.
Жаждешь берахи — ступай к источнику!
Сказано в Талмуде (трактат Кидушин,
лист 57), что предлог «эт» используется в
Торе не только для того, чтобы показать на
кого (или на что) направленно действие. На
нем лежит ещё одна важная функция —
производить добавления.
В первой фразе нашей недельной главы
присутствует предлог «эт», просто в
русском переводе — «И вот благословение,
которым благословил Моше... сынов Израиля»
— его не видно. В оригинале текста Торы
предлог «эт» стоит перед
словосочетанием «сыновьями Израиля» —
показывая, что это именно на них
направленна бераха Моше.
Но ведь этого, согласно Талмуду — мало. Он
должен еще что-то добавить. Что же он
добавляет к нашей фразе?
Чтобы в этом разобраться, нужно заглянуть
в книгу Зогар. В ней говорится, что,
решив благословить друга или родственника,
человек сначала должен благословить
Всевышнего. И только тогда есть шанс, что
его бераха будет иметь силу.
Моше наверняка знал это правило.
Используемый им предлог «эт»
свидетельствует, что прежде чем
благословить сынов Израиля, он благословил
Всевышнего. На это указывают и
повторяющиеся слова — «благословение,
которым благословил».
И действительно, к чему это удвоение?
Чтобы показать, что речь здесь идет о двух
благословениях. Сначала Моше благословил
Всевышнего, а затем — свой народ. И
благодаря этому, бераха Моше —
осуществилась.
на основе комментариев Яакова-Хаима
Софера
(автор труда «Каф hа-Хаим», Багдад
– Иерусалим, 1867-1939 гг.)
и рава Моше-Яакова Равикова
(известен и как Сандляр, т.к. имел
сапожную мастерскую;
уроки, которые он давал по
субботам, опубликованы в книге «Ликутей
раби Моше-Яаков»; конец 19-го — первая
половина 20-го вв.; Белорусь — Эрец Исраэль)
5. Кто читает Тору слева направо?
Большая часть нашей недельной главы — это
благословение (на иврите — бераха),
которым благословил Моше еврейский народ.
Поэтому глава так и называется — «Ве-зот а-бераха»).
По первым словам ее текста: «И вот
благословение…».
Прочтем этот фрагмент чуть дальше.
Написано: «И вот благословение, которым
благословил Моше... сынов Израиля...
Всевышний от Синая пришел и воссиял от
Сеира... а справа от Него — пламя закона» (Дварим,
гл. 33, ст. 1-2).
В самом начале своего благословения Моше
напоминает о заслуге сынов Израиля. Чтобы
благодаря этой заслуге, молитва Моше была
принята и осуществилась бераха.
Но о какой заслуге идет речь?
Читаем — «Всевышний от Синая пришел».
Здесь, несомненно, говорится о даровании
Торы у горы Синай. Еврейский народ
согласился принять Тору, а другие народы,
как написано в Талмуде (трактат Авода
Зара, лист 2), от нее отказались.
Значит, заслуга — в принятии Торы. Изучим
данную тему более детально.
Итак, Всевышний предлагал принять Тору
потомкам Эсава (от него произошло
большинству европейских народов).
— О чем она, Тора? — спросили они.
— О том, например, что нельзя убивать.
Убийство — это прегрешение.
— Но ведь наша сила — в умении воевать, —
возразили потомки Эсава.
Сказано в Торе: «А руки — руки Эсава!» (Берешит,
гл. 27, ст. 22). И еще: «И мечом твоим жить будешь»
(Берешит, гл. 27, ст.40).
Отвергли Тору потомки Эсава.
Тогда Всевышний предложил Тору другим
народам. Но и те отказались.
В конце концов, Тора была предложена
евреям.
— Что написано в ней? — спросили они.
— Я, Всевышний твой! — был ответ.
И евреи сразу согласились принять Тору.
Тут возникает вопрос: а не подыграл ли
сынам Израиля Всевышний? Если бы Он на
вопрос потомков Эсава ответил так же, как
евреям — они, быть может, тоже согласились
бы принять Тору?
На самом деле все было честно и
справедливо.
Всевышний и евреям и не евреям на их
вопрос давал абсолютно идентичный ответ. В
качестве ответа и тем и другим Он показывал
Скрижали Завета.
Скрижалей, как нам известно, было две — с
пятью заповедями на каждой. Только евреи
читают справа налево, поэтому и начали
читать с правой скрижали. А в первой,
верхней начертанной на ней заповеди, как
раз и говорилось: «Я, Всевышний твой...».
Потомки же Эсава читают слева направо.
Поэтому они и прочли, в качестве ответа на
свой вопрос — верхнюю заповедь на левой
скрижали: «Не убивай».
Намек на это содержится в словах Моше — «Всевышний
от Синая пришел и воссиял от Сеира».
Сеир — название местности, в которой
обитал Эсав.
Всевышний пришел с горы Синай и воссиял
Торой на горе Эсава, на горе Сеир. Потомки
Эсава, по своему обычаю, стали читать Тору
слева направо. Поэтому и прочли прежде
всего: «Не убивай».
Сыны Израиля читают справа налево. И
прочли — «Я, Всевышний твой...».
Об этом в нашем фрагменте сказано: «А
справа от Него — пламя закона».
Если перед вами положили Тору или
Скрижали Завета — начинайте читать справа.
Помня, что потомки Эсава начали чтение
слева, и — остались без Торы...
на основе комментариев Сефорно
(раби Овадия Сефорно; известный
комментатор Торы, Италия, 16-й век)
и Виленского Гаона
(раби Элиягу из города Вильно,
Литва, 18-й век)


Прочесть двадцать второй цикл обсуждения
Прочесть двадцать первый цикл обсуждения
Прочесть двадцатый цикл обсуждения
Прочесть девятнадцатый цикл обсуждения
Прочесть восемнадцатый цикл обсуждения
Прочесть семнадцатый цикл обсуждения
Прочесть шестнадцатый цикл обсуждения
Прочесть пятнадцатый цикл обсуждения
Прочесть четырнадцатый цикл обсуждения
Прочесть седьмой цикл обсуждения
Прочесть шестой цикл обсуждения
Прочесть пятый цикл обсуждения
Прочесть четвертый цикл обсуждения
Прочесть третий цикл обсуждения
Прочесть второй цикл обсуждения
Прочесть первый цикл обсуждения
| ![]()
![]()
![]()
![]()