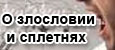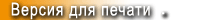
Если бы тогда
Когда умирала моя мать, я понял,
насколько значимо и неповторимо каждое
мгновение нашей жизни…
САМЫЙ ТРУДНЫЙ УРОК
Раввин Ирвин Кацоф
Жил я тогда в Лос-Анджелесе, а мама — в
Монреале. Когда мне сообщили, что она тяжело
больна, я выработал план, позволявший мне
общаться с ней как можно чаще. Работа,
семейные обязанности, значительное,
расстояние, разделявшее нас, лишали меня
возможности постоянно ездить к ней. Раз в
две недели, в четверг вечером, я летал в
Монреаль, чтобы провести с мамой (которая
большую часть времени находилась в
больнице) шаббат, и возвращался домой в
воскресенье вечером. Промежутки мы
заполняли ежедневными телефонными
разговорами.
Каждое утро начиналось с того, что я брал в
охапку четверых старших детей (которым
тогда было от 6 до 9 лет) и отвозил их в школу.
По дороге я звонил маме и включал громкую
связь — чтобы мы могли поболтать с ней всей
компанией. Дети кричали: «Бабуля, привет!
Папа везет нас в школу» и отчаянно спорили,
кто будет разговаривать с бабушкой первым.
Эти разговоры, несмотря на разделявшие нас
две с половиной тысячи миль, создавали
ощущение истинной близости.
Поступая так, я надеялся, что дети, видя,
какое уважение и любовь я питаю по к моим
родителям, отплатят мне той же монетой в
будущем, когда я сам постарею и буду
нуждаться в их поддержке.
ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ
Во время одного из моих визитов к маме я
сидел у ее постели. Она была в тяжелом
состоянии после операции, окончательно
лишившей нас надежд на ее выздоровление —
то приходила в себя, то опять теряла
сознание. Я держал ее за руку и гладил по
голове. Внезапно ее рука дернулась вверх, и
начала рисовать в воздухе окружности. Она
что-то пыталась сделать, выполнить некую
задачу. Какую именно — понять я не мог.
Через некоторое время ее рука опустилась на
одеяло.
Она спала. Я сидел рядом.
Когда она проснулась и посмотрела на меня,
на ее лице появилось выражение удивления и
грусти.
— Что случилось? — спросил я. — Что ты
пытаешься сделать?
Незадолго до этого мы с ней пришли к
соглашению открыто говорить о ее жизни и
близящейся смерти.
— Я пыталась открыть дверь, — ответила
мама. — Но она не поддавалась. У меня, похоже,
не было нужного ключа…
— Какую дверь? Куда она вела?..
— В другой мир. Моя мать и мой отец ждут
меня там. И моя сестра тоже…
Она рассказала, что они звали ее, но она
никак не могла открыть дверь. И это
расстроило ее.
Я постарался ее успокоить. Крепко сжал
мамину руку и сказал, что она обязательно
поймет, как именно открывается эта дверь —
когда она будет готова к этому.
Но я не хотел, чтобы она раскрыла секрет
двери. Я не хотел отпускать ее руку. Я боялся,
что она найдет, наконец, подходящий ключ.
Возможно, если бы я продолжал сидеть рядом,
держа ее за руку, мне удалось бы помешать ее
уходу.
Умом я понимал, что не в силах что-либо
сделать. Но сердце отказывалось в это
верить.
РАДОСТЬ В СНЕГУ
Отправляясь в Монреаль, я обычно брал с
собой двоих детей.
Особенно четко запомнилась мне одна наша
зимняя поездка. Тогда я отправился к маме в
компании старших сыновей, восьми и семи лет.
До этого мои дети никогда не видели снега.
Они родились и росли в Лос-Анджелесе. И с
нетерпением ожидали знакомства с этим
невиданным чудом.
В больницу мы приехали в четверг вечером.
Обычно мы оставались там на ночь — чтобы
иметь возможность провести с моей мамой
весь шаббат. В пятницу вечером пошел
долгожданный снег, и из окон ее палаты,
находившейся на седьмом этаже, мы наблюдали,
как он покрывает землю. Мальчики, которым
надоело сидеть без дела, рвались на улицу
лепить снеговика.
Я предложил им пойти поиграть прямо под
окнами палаты, где, в стороне от подъездной
дорожки, намело много снега. Они натянули
куртки и вылетели из палаты, пообещав в
точности выполнить мои указания.
Я, тем временем, усадил маму у окна, чтобы
она могла видеть, как резвятся ее внуки. Они
кувыркались в снегу и лепили из него
снежную бабу. Каждые несколько минут они
задирали вверх головы, смотрели на нас,
махали нам руками и пытались добросить до
нашего окна снежки. Каждый раз снежки, не
долетев, падали на их шапки. Они весело
смеялись…
Маму и меня глубоко тронула их невинность.
Мы сидели у окна, и на наших глазах стояли
слезы — слезы радости, благодарности
Всевышнему за Его дары, слезы печали, потому
что оба мы понимали, что, быть может, в
последний раз мы сидим вот так, вместе,
наблюдая, как играют мои дети — ее внуки. В
тот момент между нами возникла особая связь,
продолжающая притягивать наши души друг к
другу и сейчас, спустя 13 лет после ее
кончины. С тех пор, вспоминая тот зимний
день у окна больничной палаты, я не могу
сдержать слез.
Сегодня боль от утраты столь же свежа, как
снег, который мы видели из окна. И так же
холодна. Временами боль овладевает всем
моим существом (как тогда снег завладел
Монреалем), заглушая остальные мысли и
чувства.
В такие мгновения думалось о том, что все
мы когда-нибудь умрем. И, тем не менее, чтобы
по-настоящему осознать неизбежность конца,
мы должны встретиться со смертью лицом к
лицу. Еврейская традиция учит нас, что жить
настоящей жизнью может лишь тот, кто
примирился со смертью. Почему? Да потому,
что только смерть способна показать нам,
насколько значимо и неповторимо каждое
мгновение нашей жизни. Без этого понимания
жизнь, как скорый поезд, проносится мимо, а
мы стоим с открытым ртом и не успеваем
насладиться ее простыми радостями,
наполняющими каждую минуту существования
смыслом.
ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ
…Незадолго до маминой кончины я выкатил
кресло-коляску, в которой она сидела, на
балкон родительского дома. Мы увидели, как
прилетела маленькая голубая сойка и
устроилась неподалеку от нас на ветке
дерева. Мама, испытывавшая тогда сильную
боль, улыбнулась.
— Посмотри, какая красивая птица! —
произнесла она.
Мама улыбалась — на мгновение, забыв о
боли, пронизывавшей все ее умирающее тело. И
тогда я понял, что она стала мудрой. Эти
простые слова она произнесла их с такой
убежденностью, что я почувствовал — за ними
скрывается нечто большее. Мама выразила то
благоговение, которое внушает нам бытие.
Падающий снег, снеговик, играющие дети,
птица на ветке дерева. Жизнь. Смерть.
Единство. Если бы мы не тратили столько сил
и времени на осуществление наших житейских
планов, мы постоянно ощущали бы это.
Последние дни своей жизни моя мама прожила
с полным, абсолютным осознанием этих
неповторимых мгновений, и мне несказанно
повезло, что я стал соучастником этой
невыразимой полноты ощущений. Ее
прощальным подарком мне было более
глубокое понимание того, что объединяет
всех нас — единство Всевышнего.
Думаю, что самым тягостным в моей жизни
стал момент, когда я впервые произнес для
нее Кадиш — поминальную молитву, в
которой прославляется Творец мира.
После похорон на меня внезапно, всей
тяжестью обрушилась реальность
происходящего. Мамы больше нет на этом
свете. В тот момент мне казалось, что боль
убьет меня. Сердце разрывалось. Откуда эта
боль? От потери родной души? От осознания
того, что я тоже умру, что в один прекрасный
день, дети, лепившие под окнами больницы
снеговика, произнесут Кадиш и для меня?
Или же эта боль рождена ощущением утраты
обостренного восприятия бытия?
Наверное, в моей боли слились все эти и
многие другие чувства.
Я очень скучаю по маме. Я привык звонить ей
всякий раз, когда в моей жизни происходило
что-нибудь интересное. Теперь некому снять
телефонную трубку.
Мне все еще предстоит усвоить самый
трудный урок…
Материал сайта международной
еврейской религиозной организации Эш а-Тора
aish.com
Перевод с английского

|
![]()
![]()
![]()
![]()